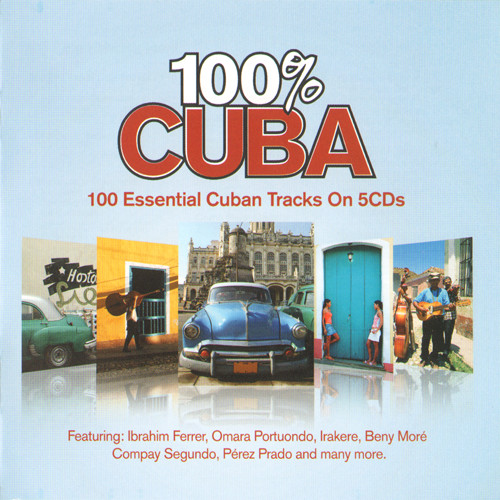Какими будут наши города? Этот вопрос занимал фантастов уже много лет. Будущее наше обычно описывается в двух вариантах. Первый - это “Стальные пещеры” Азимова. Миллионы людей живут в огромных муравейниках, не видя солнца, никогда не выходя наружу. У Азимова жители Стальных пещер не имеют даже собственных ванных, все общественное. Огромное количество народа живет на очень маленькой территории.
Второй вариант фантасты тоже очень любят. В густом лесу стоит одинокий дом. Семья живет в нем, а на работу они добираются при помощи личного вертолета/нуль-транспортировки/компьютерной связи, в зависимости от того, насколько отдаленное будущее описывается и когда книга сочинялась. Ближайший дом находится за сотни километров. Причем, что интересно, некоторые из них описывают сегодняшний день, просто когда писатель воображал себе наш век, ему казалось, что это все так далеко, и жизнь наша должна измениться радикально. А она не изменилась. Или все-таки изменилась?
Еще несколько поколений тому назад небогатые жители городов жили в ужасных условиях. Достаточно сказать, что для того, чтобы города не вымирали, нужен был постоянный приток жителей из сельской местности, такой высокой была смертность, особенно детская. Дизентерия, туберкулез легких, рахит, коклюш, дифтерит, скарлатина приводили к тому, что меньше половины новорожденных доживали до своего первого дня рождения.
Только к концу XIX века в наиболее развитых странах стали появляться идеи о том, что даже бедные люди имеют право жить по-человечески. В 1989 британский специалист по городскому планированию Эбенезер Ховард издал книгу, которая называлась “Города-сады нашего завтра” (Garden Cities of To-morrow). В ней он попытался разработать план небольшого городка, в котором жители попучали бы проимущества как от городской, так и от сельской жизни. Два таких “города-сада” были даже построены на востоке Англии несколькими годами позже.
А в том же 1898 году в США состоялась первая конференция по городскому планированию, где были четко определены три рода задач, которые стоят перед строителями нового города.
Во- первых, задачи архитектурные. Надо, чтобы построено было и практично, и красиво. Это уже пытались сделать, когда строили Петербург, перестраивали Париж, закладывали столицу США Вашингтон, планировали сетку улиц Нью Йорка.
Во-вторых, задачи гигиенические. Вода должна была быть доступной и чистой. Мусор должен был убираться. Жилища должны быть достаточно просторные, хорошо проветриваемые, но теплые зимой и прохладные летом. Конский навоз (1898 год, автомобилей еще не было) должен был вовремя убираться с мостовых.
И, наконец, вопросы социальные. Детям надо создать место, где они могут играть. Магазины должны быть в пределах досягаемости, все должны как-то добираться до своих рабочих мест.
Так в Европе и Америка начали создаваться города-спутники про больших метрополиях, которые должны были заменить собой огромные, беспорядочно разросшиеся предместья, которыми к началу прошлого века уже обросли большие города.
В них переезжали все, кто мог себе это позволить. Свой маленький домик, свой садик. Дети могут играть на улице. На работу обычно добирались на пригородном поезде, а потом и на автомобиле.
Дешевый автомобиль полностью изменил городскую жизнь в США. Предместья стали расползаться с огромной скоростью. Общественный транспорт в предместьях стал совершенно нерентабельным. Можно запустить городской автобус, когда в квартале многоэтажных домов живут 3000 человек, но нет никакого смысла гонять его, когда тот же квартал заселен домами на одну семью и вмещает полсотни человек. Потихоньку исчезли маленькие лавочки, куда можно послать ребенка за молоком и хлебом, и в магазин стало возможных ездить только на автомобиле. Пешком вообще стало некуда ходить, потому что все места, куда надо попасть, расположены слишком далеко. Старые люди и маленькие дети оказались привязанными к дому, если только взрослый с машиной не отвезет их куда надо.
Таким образом, идея одинокого дома в лесу, который как-то связан с окружающим миром, не состоялась. Но упрощенный вариант ее выжил.
Зато идея города-муравейника получила воплощение в трудах двух гениальных архитекторов, отцов, современной архитектуры. Ле Корбюзье построил Чандигар в Индии, а Нимайер Бразилию, столицу Бразилии. Оба города были рассчитаны на то, чтобы их жители передвигались на автомобилях, и оба города были построены для определенного количества жителей: Чандагар на полмиллиона, Бразилиа - на миллион.
Фотографии общественных построек этих городов обошли все архитектурные журналы и получили очень высокие оценки профессионалов.
Однако, и Корбюзье и Нимайер совершили те ошибки, за которые я лично их совершенно не переношу, а именно, построили город, не подумав о людях, которые будут в нем жить.
Рикки Бурдетт, профессор исследований в области урабанизации в лондонском Университете Экономики говорит в Бразилии в своем интервью Би-Би-Си в 2010 году:
Проблема состоит не в том, плохой ли это город или хороший. Это вообще не город. В нем нет составных частей города: городской сутолоки, жилых квартир над магазинами, смеси жилых домов и оффисных зданий. В нем нет сложной структуры нормального города, это просто скопление правительственных зданий. Люди дожидаются выходных и сбегают в Рио или в Сан Пауло, потому что в Бразилии совершенно нечего делать. Там не живут. Там только работают или спят.
Вокруг обоих городов расползлись совершенно незапланированные предместья. Там нет никаких следов работы Нимайера и Корбюзье, но зато там есть куда выйти за хлебом, и дети играют на улице. Среди бетонных конструкций Корбюзье жители посадили зелень, чтобы хоть было чем-то дышать. По рассчитанному на автомобили Чандигару, кряхтя преодолевают большие расстоямия велосипедисты и велорикши.
Грустно-то как! Строили, строили и наконец построили, но не то.
Но вот перед нами настоящий, живой город. Нью Йорк, например.
Шум, гам, грязь, толпы народа. Грязи, правда, за последние годы стало заметно меньше. Но многоэтажные дома, люди живут очень скученно. Проблемы чистой воды, чистого воздуха, вывоза мусора, доставки продуктов, транспорта, потому что что в городе работают и жители предместий. Машину воткнуть на стоянку в большом городе практически невозможно. Некоторые города, Лондон, например, сделали свой центр труднодоступным для автомобилей. Все большие города сегодня стараются развивать сложную сеть городского транспорта, но не у всех получается.
Зато жизнь бьет ключом. Театры, концертные залы, музеи, рестораны. Человеческое общение.
С другой стороны, противники городской жизни говорят, что нигде человек не может быть таким одиноким как в большом городе. А человеческое общение, театральные представления, лучшие концерты и содержание всех знаменитых музеев тебе может предоставить компьютер прямо у тебя дома.
Горожане им возражают, говоря, что настоящее общение не может заменить никакой компьютер. Что очень важно уметь вести себя в толпе, с совершенно незнакомыми людьми, а не живя в городе, мы дичаем, теряем общественные навыки.
А им в ответ на это говорят…
И так далее.
Так как же нам лучше жить? Где лучше работать, заводить семью, воспитывать детей? В большом городе или в маленьком поселке? В квартире или в доме с садом? К чему мы должны стремиться, к городу-муравейнику или к городу-саду?




![Игры в разработке и демо-версии :: [В разработке] DREADZONE (RUS|ENG|MULTI8) [Р]](http://i3.imageban.ru/out/2025/07/20/d77fd1faff9e7f3930a497cf832a2444.jpg)